
Сайгон: кафе как магнит творческой энергии Ленинграда
Рубрикация: · концепция · рождение «Сайгона» · происхождение названия · обитатели «Сайгона» · досуг «сайгонавтов» · платоновские диалоги «Сайгона» · анатомия творческого пьянства · известные люди «Сайгона» · «Сайгон» и КГБ · заключение
Концепция
«Рильке писал, что Россия, в отличие от других стран, не постарела — это страна будущего и одновременно страна, в которой всегда свершается первый день творения. И мне кажется, что „Сайгон“ символически репрезентует Россию как райское детство человечества».
Татьяна Горичева
Удивительная особенность искусства, которая отличает его от науки, религии и других видов духовного и интеллектуального труда, заключается в том, что оно способно возникать в самых неожиданных — а иногда и самых ожидаемых — социальных контекстах и слоях общества. «Сайгон» — это наглядный пример того, как человеческий разум, балансируя между чёрным пьянством и глубоким интеллектуальным порывом, рождает уникальную творческую искру. Уникальность заключается в том, что её рождение происходит, казалось бы, в самом неподходящем месте и в самых ужасных условиях. Однако именно «Сайгон» сумел объединить под своим «кофейным» началом самых известных людей того времени. Его культурное и социальное значение сложно переоценить: в те годы Сайгон был сердцем Петербурга, а его кофейные ароматы, разлетавшиеся по улочкам, — дыханием того времени. Виктор Ширали так описывал ленинградскую культуру:
«Считается, что первая — официальная, и вторая — андеграунд. Я считаю, что существовало три: была ещё и сайгоновская».
Сайгон был отдельным миром, укрытием, где царила тотальная свобода, граничащая с беззаконием, и интеллигентное хамство, которое часто свойственно творческим (и не очень) людям.
«Если бы „Сайгон“ на этом месте не возник, его стоило бы выдумать. Потому что это идеальное место, самое демократическое место города».
Эрик Горошевский
В качестве материала для визуального исследования я брала архивные фотографии из «Сайгона» и рисунки, сделанные местными художниками. Из фотографий можно сделать вывод, что это обычный кабак, но надо понимать, благодаря чему это кафе стало столь притягательным и почему оно являлось неотъемлемой частью культурной жизни богемы того времени. Это место нельзя сравнивать с артистическими кафе, в которых была чёткая программа чтения стихов и театральных сцен. Сам «Сайгон» был своего рода театром, в котором каждый из участников мог надеть любую маску: художника, поэта, бездомного. Беседы в «Сайгоне» — это театральные представления. Порой посетители кафе настолько сильно вживались в роли, которые придумывали, что действительно становились теми, за кого себя выдавали. Моё исследование начинается с того, как образовалось это место, почему оно стало столь притягательным для творческой интеллигенции, и заканчивается гипотезами, почему КГБ не закрыл «Сайгон». Я также хочу остановиться на подробном анализе того, почему это место являлось столь притягательным для богемы и как пьянство и разгульный образ жизни связаны с искусством. Основными текстовыми материалами являются воспоминания людей, которые посещали это место: с кем они общались, кого видели в этом кафе, их личное мнение касательно популярности этого места. К «Сайгону» относились по-разному: некоторые считали его местом падших людей — наркоманов, проституток, алкоголиков. У этого места в принципе была очень неоднозначная репутация. Но нельзя отрицать того факта, что через него прошли многие именитые люди — начиная с Бродского и Довлатова, заканчивая Гребенщиковым и Курёхиным. «Сайгон» — это точка творческого напряжения, магнит для одиноких и жаждущих свободы людей. Это пространство, напоминающее сад земных наслаждений Босха: место, где каждый мог быть тем, кем хотел, где не существовало понятия добра и зла, а существовал лишь диалог, который порождал хаос художественной идеи.
Рождение «Сайгона»
До появления «Сайгона» не существовало единого пространства, которое можно было бы назвать центром жизни тогдашней молодежи. Люди проводили время на Малой Садовой, заглядывая в литературные кафе. С 60-х годов за Малой Садовой закрепилась репутация интеллектуального и поэтического круга, который, однако, допускал к себе далеко не всех. Он был частью так называемого «интеллектуального маршрута», включавшего не только посещение кафе, но и Публичной библиотеки, долгие прогулки и беседы. Малая Садовая принимала в свой богемный круг лишь избранных, и большинство «неформалов» оказывалось за его пределами.
Фотография Шуваловского дворца, который находится рядом с Малой Садовой, 1972–1973 гг., неизвестный фотограф
Однако 1 сентября 1964 года при ресторане «Москва» открылось на первый взгляд неприметное кафе, получившее народное название «Подмосковье». В отличие от своих конкурентов здесь варили не только «двойной», но и «тройной» кофе — хотя, конечно, только тем, кто сумел договориться. Но полюбилось это место не столько благодаря уникальному предложению, сколько магической наэлектрезованной, атмосфере вседозволенности.
Кафе «Сайгон», 1986–1988 гг., неизвестный фотограф
Между «малосадовцами» и «сайгонавтами» существовало своеобразное противостояние. Малая Садовая была интеллигентной, уравновешенной, в меру пылкой. Сайгон же не случайно получил своё имя: это было прибежище тех, кто не вписывался в аристократически выверенный круг Малой Садовой, но чьи интеллектуальные стремления ничуть не уступали стремлениям её завсегдатаев. В «Сайгоне» царила та свобода, которой не было нигде во всей стране.
Происхождение названия
В кафе собирались самые разные слои общества — от интеллектуалов до бездомных. Место было поистине эпатажным: художники и поэты соседствовали с пьяными матросами и проститутками.
«Но вершиной периода стал „Сайгон“. Начавшись с безобидных „ Петушков “ и „Подмосковья“, он был тут же переименован в это зловещее имя».
Константин Кузьминский
Кафе «Сайгон», 1988 г., неизвестный фотограф
В ту пору шла война во Вьетнаме. Сайгон был криминальным городом, где царили наркоторговля, грабёж и проституция. Однако к ленинградскому «Сайгону» это имело мало отношения. Место было экстравагантным, но оно никогда не превращалось в наркокартель, а лишь источало декаданс.
«Разумеется, на кафетерии не было вывески „Сайгон“ — это имя он получил у своих завсегдатаев вскоре после начала американских военных действий во Вьетнаме — должно быть наэлектризованная атмосфера кофейни чем-то напоминала брутальные страсти театра военных действий. А может быть, густой кофейный аромат вызывал ориенталистские ассоциации и порождал восточные страсти. Здесь влюблялись, флиртовали, кокетничали, пили кофе, курили травку… Но главное, что здесь делали, — говорили!»
Тамара Буковская
Обитатели «Сайгона»
Из всего вышенаписанного может сложиться впечатление, что в «Сайгон» заглядывали только несчастные юродивые и обиженные жизнью художники, но это далеко не так. Публика в «Сайгоне» была самой разнообразной: поэты, буддисты, художники, учёные и даже представители духовенства. Именно о «духовной стороне» завсегдатаев напоминает Михаил Новиков:
«Был я знаком и с группой мистиков, но в „Сайгоне“ у меня серьезного контакта с ними не было, помню только имена (Саша, Володя). Увлекались они тем же, что и все в Европе — Бёме, Силезиусом, Сведенборгом».
«Сайгон», из серии «Линии жизни», 1980 г., М. Петренко. Офорт
Удивительно, но люди замечательно ладили между собой. Это был тот самый мирный островок, попадая на который, забывали старые ссоры и обиды.
«В „Сайгон“ приходили кто в четыре часа, кто в пять, кто в шесть, кто в семь, но там всегда всех можно было найти. Всегда. Ведь, как говорил Мармеладов, должно быть у каждого человека место, куда можно пойти. „Сайгон“ был церковью без церковности, мармеладовской такой церковью, где они с Раскольниковым узнали друг друга среди хохочущей толпы…»
Татьяна Горичева
Витя Колесников и София Валентиновна Синицкая, неизвестный год, неизвестный фотограф
поэт Евгений Вензель, фото с фэйсбука
И всё же, прежде всего, сегодня «Сайгон» известен тем, что именно в его тесных, прокуренных стенах концентрировалась почти вся творческая интеллигенция того времени. Это была точка притяжения людей, для которых слово и жест имели больший вес, чем любые социальные формальности. Через «Сайгон» прошли многие именитые фигуры: поэты, художники, музыканты, философы — те, кто впоследствии определил культурный облик эпохи.
«Оказалось, что „Сайгон“ был местом, где сконцентрировалась в годы, которые мы называем застойными, ленинградская демократическая культура. Могу сказать, что из „Сайгона“, на мой взгляд, вышло все самое интересное, что создавалось в те годы в Ленинграде, причем не только в литературе, но и в живописи, в музыке, даже в философии, ну и в каком-то смысле — в духовных исканиях ленинградской интеллигенции».
Виктор Кривулин
поэт Виктор Кривулин, неизвестный год, неизвестный фотограф
Разумеется, у «Сайгона» были и свои правила, и свои опасности. Безопасных мест тогда вообще было немного, а «Сайгон», со своей свободой, притягивал не только интеллектуалов, но и тех, кто жил на грани закона.
«И „Сайгон“ был своего рода такой башней Сен-Жак, где обретались Паскали, Бретоны и прочие обэриуты, сюрреалисты, нигилисты… Нигилизм сайгонский, потрясающий все уровни бытия, был апофатическим нигилизмом: то есть не нигилизмом революционеров XIX века, которые непременно хотели всех свергнуть, расстрелять и убить, а очень позитивным нигилизмом — за которым скрывалось начало. Этот нигилизм отрицал абсолютно все, что принадлежит миру сему, и вместе с тем принимал все — принимал в преображенном свете».
Татьяна Горичева
Поэт Евгений Вензель вспоминает одного колоритного посетителя «Сайгона»:
«Я лучше про бандитов из „Сайгона“ расскажу… Помню одного, он был ростом примерно метр тридцать пять, пиджак же носил пятидесятого- пятьдесят второго размера, то есть этот человек фактически представлял собой вытянутый квадрат. Он был похож на идолище из какого-то советского фильма, — огромная круглая голова, почти без шеи. Уголовник, видимо, настоящего пошива. Не помню его клички. Кто-то, зная мой злоречивый язык и боясь, что я отпущу какую-то реплику в адрес этого человека, предупредил меня: „Ты с ним лучше не шути“».
Евгений Вензель
Досуг «сайгонавтов»
«Сайгон» определялся в первую очередь людьми. Именно они создавали эту гипнотическую атмосферу. Кафе обладало ещё одним преимуществом, благодаря которому оно приобрело столь сильную популярность: возможностью общения. Одиночество толкало людей в это место, потому что здесь всегда можно было найти собеседника. Интеллектуальные, но непонятые люди стремились высказаться, получить ответ, найти дискуссию по вкусу. Общение было неотъемлемой и главной частью «Сайгона». Люди часто приходили не за чашечкой кофе или бокалом вина, а чтобы встретить знакомых.
«Чаяние пищи духовной в очереди за пищей материальной — это парадокс „Сайгона“».
Фотография около кафе «Москва», 1986 г., неизвестный фотограф
За «Сайгоном» тянулся особый мистический след. Когда человек находится в алкогольном или наркотическом состоянии, реальность резко искажается. Похожее влияние оказывал «Сайгон». Высокая концентрация интеллектуальных и творческих людей создавала ощущение наэлектрезованности воздуха. Тусклое освещение погружало в транс. Это похоже на перепад температур — когда входишь в «Сайгон», стремительно холодает.
«Пока не появился „Сайгон“, мы так жили ночью. А в „Сайгон“ входишь, и первое ощущение — как будто со света во тьму; даже зимой, когда темно на улице, все равно… Ощущение, что ночь среди дня…»
Виктор Кривулин
Кафе «Сайгон», около 1981 года, неизвестный фотограф
Но если говорить о более приземленных вещах, то, разумеется, в «Сайгоне» читали стихи, прозу, на месте писались и картины. Все это был общий, единый порыв, которому невозможно не поддаться.
«Естественно, читались стихи, естественно, передавались рукописи, так что это время можно с полным правом окрестить как „сайгонский период русской литературы“».
Константин Кузьминский
Платоновские диалоги «Сайгона»
Диалог у Платона — это не просто обмен информацией, это особый ритуал, который ведёт нас от непонимания к просветлению. Платон видел диалог как основной и самый действенный способ учения. В своём диалоге «Федр» от имени Сократа Платон говорит, что-то слово, которое написано, мертво и не способно себя защитить. В «Сайгоне» люди, видимо, разделяли мнение Платона на этот счёт. Основной интеллектуальной мерой была беседа, а не письменная традиция. Интеллект и духовность человека оценивались не количеством прочитанного, а умением вести дискуссию и общей способностью чувствовать трансцендентное.
«Если инициация Малой Садовой заключалась в проверке на способность к общему интеллектуальному переживанию через текст (Достоевского, кино и т. д .), то инициация „Сайгоном“ — на способность к со-бытию: не только через поэзию или совместные занятия философией, но и путешествия автостопом, пьянство, наркотический трип, свободную любовь, оккультные практики, гипноз и т. д., но главное — на диалог».
Люди «Сайгона» видели глубже и дальше, чем большинство. Важен был не текст и не содержание как таковое, а сам человек — то, что он привносит. Отсюда и тяга к алкоголю, наркотикам, рискованному поведению: всё это мгновенно срывает маски и обнажает истинную сущность. В этом и заключалась притягательность «Сайгона». Он напоминал своеобразное чистилище, где каждый сталкивался с пороками, отражёнными в других посетителях.
«В „Сайгоне“ торжествовала устная традиция. Произведениям сайгонавтов (от Колеса до Кривулина) свойственна исключительная вариативность, что объясняется свободой от представления о застывшем тексте. „Ходячие“ текстыобрастают дополнениями „от себя“, поскольку важен не текст как таковой, а ситуация, его породившая, или автор, в память о котором важно сохранить эту энергию брожения, „дух безумия“».
Сам человек был одновременно и главным звеном, и лишь одной из составляющих, которые оживляли «Сайгон». Диалог становился своего рода инициацией — моментом, когда человек ощущает себя одновременно самым могущественным и самым беспомощным существом.
«Главным для нас был диалог. Приходил в „Сайгон“ новый человек, ты начинал с ним говорить, возникал диалог, и уже не важно, как тебя зовут, кто ты — инженер или художник Подобными социальными вопросами просто не интересовались, и диалог такой, как будто мы сто лет друг друга знаем».
Борис Кошелохов
Анатомия творческого пьянства
Изменение сознания при помощи алкоголя — это достаточно частая практика среди людей искусства. Она работает как катализатор творческой идеи и одновременно даёт седативный эффект, помогающий справиться с тяжёлыми мыслями. Тонкочувствующие, восприимчивые люди могут благодаря этому воздействию экспериментировать со своим сознанием, вылавливая оттуда гениальные мысли и образы. Для творчества характерен надрыв. Но при этом этот надрыв необходимо довести до абсолюта, до грани с помешательством, и при этом важно вовремя остановиться, не переходя границы. Балансирующие между этими двумя состояниями пишут гениальные стихи и картины, сочиняют великолепную музыку и, что очень важно заметить, не могут поступать иначе. У них нет выбора не творить. Именно поэтому писатели, даже будучи в ссылках, продолжали создавать произведения. Эта необходимость вытекает из их полубезумия, в котором они стремятся уловить и передать трансцендентное, предать идеям форму. Так возникает замкнутый круг: люди пьют, чтобы усилить творческое вдохновение, и одновременно, чтобы уйти от реального мира в мир идей.
«Это был тот самый хаос, о котором писал Ницше: „Только тот, кто носит в душе своей хаос, может породить пляшущую звезду“. Ведь Петербург, хотя он и построен геометрически правильно, взвешенно, — город абсолютного хаоса. Сама его геометрия призвана скрывать ужас, таящийся в основании Петербурга».
Татьяна Горичева
Вернёмся к посетителям «Сайгона». Наша богема, помимо тонкого мироощущения, обладала большой склонностью к декадансу. Некоторые напоказ спивались, другие же — более одарённые — делали это совершенно искренне, не задумываясь.
«Как легко заметить, сайгонавт придуман в рифму с алконавтом, что вполне отражало реальное положение дел».
Дмитрий Равинский
Пьянство было также способом найти общение. Алкоголь дарит необходимую при общении претуплённость рассудка, замедляет реакции и в целом делает лицо доброжелательнее. Посетители «Сайгона» это прекрасно понимали.
«Алкоголь же изменяет сознание. Эта тема не обсуждалась, но пьянство совершенно четко было способом самосохранения».
Евгений Вензель
«Сайгон» не был баром, однако алкоголь был необходимым структурным элементом в его сакральной системе.
«Постоянная „сайгонская“ публика употребляла не только кофе. Из кофейных стаканчиков пили водку и портвейн. Один такой стаканчик у меня сохранился. Он был украден из „Сайгона“ более двадцати лет назад (этот подвиг совершил не я). Бутылки открыто никто не демонстрировал — спиртное наливали в кофейную посуду под столиками. Иногда алкоголь распивался рядом с „Сайгоном“. В „парадняке“ (это слово произносилось с ударением на букву „e“) пили в холодное время года».
Вячеслав Долинин
Алкоголь был символом бунта, был жестом самоутверждения, знаком принадлежности к миру, который существовал по своим правилам и в котором творческий импульс нередко рождался на грани разрушения.
«Но где еще найдем друг друга? Когда стемнеет небосклон, То ярче солнечного круга Во мне сияет твой притон».
Евгений Вензель
Известные люди «Сайгона»
Сайгон посещали многие известные люди того времени — достаточно вспомнить хотя бы Бродского. Но важно отметить, что помимо уже признанных фигур здесь сформировались и вполне талантливые поэты, выросшие непосредственно в сайгонской среде. Их творчество во многом обязано именно этому месту, его свободной атмосфере и кругу единомышленников.
«Поэзия сайгонавтов — явление неоднородное. В отличие от малосадовцев, поэты-сайгонавты (Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Евгений Вензель, Виктор Ширали, Петр Чейгин, Владимир Нестеровский, Славко Словенов) никогда не объединялись формально под знаком „Сайгона“ в какую-либо литературную группу. За время существования этого кафе на углу Невского и Владимирского (1964-1989) не было издано ни одного совместного сборника, который бы позволил говорить о „Сайгоне“ как о творческом содружестве. Тем не менее, существовал единый круг общения, включавший, помимо перечисленных выше поэтов, Бориса Куприянова, Юлию Вознесенскую, Елену Пудовкину, Бориса Лихтенфельда, Петра Брандта».
«В „Сайгоне“ Вензель зубоскалит, На малолеток зубы скалит. Не трусь его, он не укусит, Он сам тебя сильнее трусит».
Евгений Вензель
Сергей Довлатов тоже бывал в «Сайгоне». Среди постоянных посетителей его вспоминают довольно часто.
«Как-то раздался шепот, разраставшийся волнами: „Довлатов, Довлатов…“ Я не знала, кто это. Оказалось — огромный мужик. Кажется, пьяный. Пожалуй, страшноватый, но с очень красивыми глазами. Наташка — на мой вопрос — сказала, что он тут самый клёвый».
Ольга Старовойтова
Борис Гребенщиков, лидер группы «Аквариум», был постоянным посетителем легендарного ленинградского кафе «Сайгон». Он вспоминал, что заходил туда утром «выпить кофе после дикого похмелья». С середины 70-х кафе стало местом встречи неформальной публики и рок-музыкантов, среди которых Гребенщиков был одним из самых частых гостей. По воспоминаниям, он «каждый день ходил в „Сайгон“ пить кофе». Виктор Цой тоже заглядывал в это кафе.
«Заходил в „Сайгон“ Гребень (Гребенщиков). Но у нашей компании он был не в почете — вечно окружен девицами. Чуть позже, уже в 1980 годы, бывал Шевчук, хороший парень. Он тогда дворником работал… Представил нас Юра Захаров, кинорежиссер, документалист. Году в 1983 я познакомился там с Витей Цоем. Просто разговорились — знаете, как бывает. Потом решили вместе поехать домой на троллейбусе. Выяснилось, что нам в одном направлении, на Петроградскую. Цой показал, где его кочегарка, которую мы прозвали „цоевка“».
Александр Штамм
Борис Гребенщиков с сыном, 1986 г., неизвестный фотограф

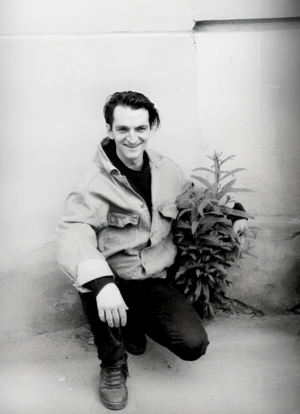
Олег Котельников, неизвестный год, неизвестный фотограф/Тимур Новиков, неизвестный год, неизвестный фотограф
Группа «Митьки»: Владимир Шинкарев, Александр Флоренский, Дмитрий Шагин, неизвестный год, неизвестный фотограф
«Сайгон» и КГБ
В связи с вышенаписанным возникает вполне резонный вопрос: как же так вышло, что Сайгон не закрыли? Сайгон, действительно, был рассадником не только творческой мысли, но и бандитских группировок.
«Существовала целая мифология, относящаяся к взаимоотношениям „Сайгона“ и правоохранительных органов. Как человеку много в жизни повидавшему, мне сейчас понятно, почему в „Сайгоне“ было довольно много ментовских оперативников. Просто потому, что там обреталось немало уголовников: кто сошконки отчалил — туда шел. Что же касается пристального внимания КГБ, то это, по-моему, чистый миф, потому что в „Сайгоне“, конечно, никаких диссидентов не было. Иногда случалось, что кто-то там оставлял портфель с нелегальной литературой, но все говорили, что это пройденный этап, а интересоваться надо дзэн-будлизмом… Хотя я помню, что и о награждении Солженицына Нобелевской премией, и об отъезде Броского я услышал именно в „Сайгоне“. Конечно, эти сюжеты там как-то обсуждались».
Лев Лурье
Заключение
Сайгон — это своего рода колыбель одного конкретного поколения. Здесь формировались личности, которые впоследствии стали определять лицо российской литературы, музыки и искусства. В этих стенах молодые поэты, писатели, музыканты и художники находили пространство для эксперимента, смелых идей и творческого риска. Сайгон воспитал тех, кто стал носителем духа перемен.
«Время „Сайгона“ ушло в прошлое. На месте кафе ныне — благопристойный ресторан пятизвездного отеля. „Сайгон“ остался в воспоминаниях, стихах, прозе, картинах и судьбах тех, чьи имена составили историю культуры 1970–1980 годов XX столетия».
Тамара Буковская
Это место превратилось в подлинный культурный феномен. Пространство, где первозданное безумие соединялось с возвышенным стремлением к духовному и интеллектуальному. В Сайгоне встречались крайности человеческой природы: эта его полярность создавало напряжение, которое питало посетителей этого места. Именно эта смесь противоречий делала кафе местом, где рождалась яростная энергия нового.
«„Сайгон“ умер! Да здравствует „Сайгон“!»
Игорь Андреев
На выставке в Петербурге представили фотографии кафе «Сайгон» [Электронный ресурс] // ТАСС. 06.04.2018. URL: https://tass.ru/kultura/5103122 (дата обращения: 17.11.2025).
https://antennadaily.ru/2018/04/07/saigon/(дата обращения: 17.11.2025).
Валиева Ю. Сумерки «Сайгона» [Электронный ресурс] / Ю. Валиева. URL: https://readli.net/sumerki-saygona/(дата обращения: 18.11.2025).
«Сайгон: „Это была страшная путаница людей“» [Электронный ресурс] // Current Time (РСЕ/Радио «Свобода»). URL: https://www.currenttime.tv/a/27466668.html (дата обращения: 18.11.2025).
Reveal.World. Кафе «Сайгон». URL: https://reveal.world/sv/story/kafe-sajgon (дата обращения: 18.11.2025)
ТАСС. На выставке в Петербурге представили фотографии кафе «Сайгон». URL: https://tass.ru/kultura/5103122(дата обращения: 18.11.2025)
Sobaka.ru. «Сайгон жив!»: Выставка о легендарном кафе, где любили сидеть Довлатов, Цой и Гребенщиков. URL: https://www.sobaka.ru/entertainment/art/72365(дата обращения: 18.11.2025)
Colta.ru. «„Сайгон“ — это место, свободное от ханжества, от советского лицемерия». URL: https://www.colta.ru/articles/literature/23003-pereizdana-legendarnaya-kniga-sumerki-saygona (дата обращения: 19.11.2025)
Без автора. Изображение кафе «Сайгон» / ArchitectStyle.livejournal.com [Электронный ресурс]. — URL: https://architectstyle.livejournal.com/745981.html — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Фотография кафе «Сайгон» / Antenna Daily [Электронный ресурс]. — URL: https://antennadaily.ru/2018/04/07/saigon/ — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Иллюстрация «Сайгон (кафе)» / Википедия [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайгон_(кафе) — Дата обращения: 18.11.2025.
Валиева Ю. Обложка книги Сумерки «Сайгона» / Ю. Валиева, 2009 [Электронный ресурс]. — URL: отсутствует. — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Иллюстрация / Proza.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://proza.ru/2009/10/12/1399 — Дата обращения: 18.11.2025.
Без автора. Изображение статьи «В Петербурге умер один из …» / DP.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://www.dp.ru/a/2018/06/11/V_Peterburge_umer_odin_iz — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Иллюстрация Виктора Кривулина / 45parallel.net [Электронный ресурс]. — URL: https://45parallel.net/viktor_krivulin/index.html — Дата обращения: 18.11.2025.
Без автора. Фотография богемы / Chayka.org [Электронный ресурс]. — URL: https://www.chayka.org/media/bogemajpg — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Изображение кафе «Сайгон» / AdresaSPB.com [Электронный ресурс]. — URL: https://adresaspb.com/category/different/mesta/kafe-saygon/ — Дата обращения: 18.11.2025.
Без автора. Фотография кафе «Сайгон» / Sobaka.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sobaka.ru/entertainment/art/72365 — Дата обращения: 17.11.2025.
Без автора. Фотография кафе «Сайгон» / Sobaka.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sobaka.ru/entertainment/art/72365 — Дата обращения: 18.11.2025.
Без автора. Фотография кафе «Сайгон» / Sobaka.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sobaka.ru/entertainment/art/72365 — Дата обращения: 17.11.2025.



