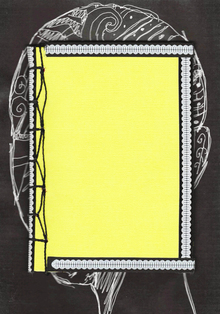Каменский

Язык произведений Алексея Васильевича Каменского принадлежит к числу тех художественных языков, которые относятся к современным им системам изображения так, как поэтический текст относится к речи повседневности. Поэтический — значит меняющий ритмику привычной речи. Поэзия — разрыв в потоке речи повседневности. Тогда живопись, какой она становится в опытах Кандинского и Матюшина — и сохраняется в некоторых направлениях русского искусства ХХ столетия, — это разрыв в её предметности.


В работах Каменского появляется мир, очень похожий на тот, какой был всегда, был прежде и сейчас находится совсем рядом. Но что-то изменилось в нём, и перемены коснулись чего-то очень важного. Художник говорит о совсем близких вещах, но это не значит, что они ему хорошо известны. Они появляются как ответные движения людей, слов и состояний времени на его попытку говорить о них или их изображать. Тогда он начинает разговаривать с ними; он не переводит прямую речь их существования на язык искусства; рассказывая о них, он слышит их речь как язык искусства.
Изобразительное искусство — это язык, единственно возможное место появления мира. Без искусства нет повседневности как реальности, то есть осознанного пространства присутствия человека. Образы искусства могут быть смутны, но их появление осознанно; фигуры повседневности кажутся ясными, но они только привычны. Художник пробует различать смыслы появления вещей, которые кажутся слитно-неразличимыми в повседневной жизни. Искусство — это проговаривание мира, просматривание его неустойчивых картин.
Осознание близости «другого» — очень важный смысл в культуре экзистенциализма и, конечно, в русском изобразительном искусстве шестидесятых годов, но ещё важнее осознание повседневности как пространства диалога с «другим». В этом пространстве художественная практика становится способом обозначения постоянно удаляющихся и недостижимых границ; искусство становится способом прочтения повседневности, способом её проживания и проговаривания, осмысления и преодоления себя.
Изображение появляется и не может надолго задержаться в памяти листа; оно не может быть памятником действительности; оно встаёт на путь изменений. Таковы серии «Гимнасты и жонглёры» (1960, 1965, 1967–1968) или «Крымские собаки» (1970). Две работы из одного и того же цикла могут быть непохожи друг на друга, хотя внутренняя связь между ними всегда сохраняется. В серии «Весна в горах» (1962) линия точно описывает поверхность предмета — корявость дерева и гладкую шерсть животного; там, где художник рисует только появляющиеся живые растения, — линия неровная, нервная, неуверенная, прерывистая; здесь есть детскость, лишённая наивности: это вырастающее, становящееся собой изображение вырастающего и становящегося собой мира.
Художественная практика Каменского снимает значимость создания и регистрации законченной формы и обнаруживает себя в особых состояниях открытия, то есть принятия процесса художественной работы. Из этой открытости навстречу переменам и неизвестности появляются ряды изображений, которые исследователь готов воспринимать как циклы, а художник — как поиск и повседневную работу. Он наблюдает за происходящими изменениями и сам следует путём постоянных изменений, происходящих в каждой точке мира, во всех связях, собирающих его.
В последние годы растёт интерес к творчеству Алексея Васильевича Каменского, открываются новые выставки его работ, появляются каталоги, книги, альбомы. Но, наверное, сейчас не так важно, что станет в будущем. Важно, что благодаря творчеству Каменского в русском искусстве второй половины ХХ века существует ещё один опыт самостоятельного пути, опыт независимости от тех, кто думает, будто решает, как будет выглядеть история искусства, опыт уважения к искусству как пространству работы других талантливых людей и любви к искусству, как тому лучшему, что создавали люди.